Новости
Домашняя собака уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у владельцев

Когортное исследование выявило, что домашние собаки оказывают профилактический эффект на людей с сердечно-сосудистым ...
Статьи
Динамика индекса повреждения у больных системной склеродермией: ретроспективный анализ за пятилетний период по данным территориального регистра
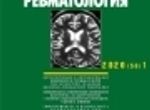
Петров А.В., Крутиков Е.С., Гаффарова А.С., Петров А.А., Горлов А.А.
Научно-практическая ревматология. 2020;58(1):42-4 ...
Оценка клинической значимости выявления гиперэхогенных депозитов в гиалиновом хряще при ультрасонографии у больных остеоартритом коленных суставов.
Введение
В патогенезе остеоартрита (ОА) участвуют многие воспалительные, механические, биохимические, гормональные, генетические и конституциональные факторы, которые обуславливают гетерогенность патологических структурных изменений суставного хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки и сухожильно- связочного аппарата суставов [1,2]. В последние годы в зависимости от преобладания того или иного патогенетического фактора выделено несколько фенотипов ОА, среди которых особые дискуссии вызывает существование кристалл-индуцированного воспалительного фенотипа [3]. В самом деле, у многих больных ОА в синовиальной жидкости и суставном хряще при помощи различных методов исследования (поляризационная микроскопия синовиальной жидкости, рентгенография, ультрасонография, исследование биопсийного и интраоперационного материала суставного хряща, в том числе, при помощи электронной микроскопии) находят кальцийсодержащие кристаллы, в основном пирофосфата кальция (ПФК) и основных фосфатов кальция (ОФК) [4,5]. В этом случае часто речь идет коморбидности ОА и пирофосфатной артропатии (ПФА) или хондрокальциноза. При этом клиническое ведение больных с острым и рецидивирующим активным кристалл-индуцированным воспалением после обнаружения кристаллов ПФК при микроскопии синовиальной жидкости традиционно рассматривается в рамках диагностических и терапевтических рекомендаций, выработанных для ПФА. В то же время бессимптомные и субклинические формы ПФА, такие как ОА с ПФА и бессимптомная (лактоническая) форма, где явное активное кристалл индуцированное воспаление отсутствует, интересуют ревматологов в аспекте возможного негативного влияния депонирования кристаллов на структурную прогрессию ОА [6,7]. Хотя у многих больных ОА с явлениями хондрокальциноза степень выраженности структурных изменений хряща и субхондральной кости минимальна, во многих, в основном, экспериментальных, работах было показано, что отложение кристаллов ПФК и ОФК в уже патологически модифицированный хрящ у больных ОА может индуцировать низкоуровневое воспаление СО за счет индукции синтеза хондроцитами, фибробластами и синовицитами оксида азота, простагландинов, провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6) и повышения экспрессии матричных металлопротеиназ [8-12]. Кристаллы солей также могут оказывать влияние и на функции остеобластов и остеокластов, способствуя локальной резорбции и ремоделированию субхондральной кости [12, 13].
В последние годы с внедрением в клиническую практику высокочастотных ультрасонографических датчиков (18-22 МГц) появилась возможность обнаруживать в гиалиновом хряще кристаллы ПФК в виде гиперэхогенных линейно расположенных точечных или глыбчатых включений у значительно большего количества пациентов по сравнению с рентгенографией. Многие исследователи отмечают высокую чувствительность метода, принимая во внимание возможность выявления с помощью высокочастотной ультрасонографии минимальных отложений кристаллов [14-17]. В тоже время клиническая значимость факта выявления гиперэхогенных депозитов (ГД) в гиалиновом хряще больных ОА, также как их связь с особенностями структурных изменений хряща и субхондральной кости практически в настоящее время практически не исследована.
Цель и задачи.
Оценка взаимосвязи между выявлением при ультрасонографии в гиалиновом хряще ГД у больных остеоартритом коленных суставов (ОАКС), клиническими проявлениями и структурными изменениями по данным ультрасонографии и рентгенографии коленных суставов (КС).
Материалы и методы.
В основу работы положен анализ данных наблюдения за 114 больными с диагнозом ОАКС, установленным по критериям Американской коллегии ревматологов (1986 г.) [18]. После подписания формы информированного согласия, одобренной комиссией по этике Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, больные последовательно включались в исследование. В исследование не включались больные с другими воспалительными заболеваниями суставов; больные с рецидивами острого воспаления коленных и других суставов с быстрым нарастанием болевого синдрома (при ходьбе) и припухлости сустава в течение первых 24-48 часов до максимума; больные с уровнем мочевой кислоты в крови выше 360 мкмоль/л; пациенты, перенесшие травмы и операции на коленных суставах; больные со значениями СОЭ выше 20 мм в час по Вестергрену и СРБ выше 5 мг/л; больные с IV рентгенологической стадией ОАКС по классификации Kellgren-Lawrence (K/L); а также принимавшие системные глюкокортикоиды и интраартикулярные или периартикулярные инъекции глюкокортикоидов за 3 месяца до начала исследования.
Среди наблюдаемых больных были 40 мужчин и 74 женщины. Средний возраст больных составил 62,4 года, средняя масса тела – 84,4 кг, средний рост – 165,8 см. При рентгенографии суставов у 21 больного определялась I стадия ОАКС по Kеллгрену, у 64 больных – II стадия, а у 29 пациентов – III стадия. Средняя толщина медиального отдела суставной щели коленных суставов составляла 2,1 [1,7; 2,5] мм. Больным проводились клинические и лабораторные обследования, для оценки выраженности симптоматики ОА применялся опросник WOMAC.
Всем больным проводилась ультрасонография с применением линейным датчиком (частота - 18 МГц) с использованием аппарата MyLab 50 и дополнялось допплеровским энергетическим исследованием с частотой импульсов 6,6 МГц. В гиалиновом хряще при ультрасонографии ГД выявлялись в виде дискретных гиперэхогенных глыбок и линейно расположенных гиперэхогенных точечных структур с минимальной суммарной протяженностью более 5 мм в одном КС, расположенные внутри гипоэхогенного слоя гиалинового хряща вдоль линии кости, которые не выходили за границы гиалинового хряща и не исчезали при разных углах наклона датчика [15,16] (рисунки 1 и 2).
Рисунок 1.
Гиперэхогенные точечные включения, расположенные в виде линии в гиалиновом хряще по контуру медиального мыщелка бедренной кости и по контуру переднего рога медиального мениска.
Рисунок 2.
Глыбчатые гиперэхогенные включения в гиалиновом хряще по контуру медиального мыщелка большеберцовой кости.
Также проводилось изучение состояния синовиальной оболочки (СО) КС, оценивалась ее максимальная толщина, наличие свободной жидкости в полости сустава и распределение допплеровского сигнала внутри СО. В зависимости от ультрасонографических данных были выделены следующие критерии определения степени активности синовита: 1 степень – утолщение СО до 3 мм, отсутствие допплеровских сигналов и признаков накопления свободной жидкости в полости сустава, 2 степень – максимальная толщина СО от 3 мм до 6 мм и/или единичные допплеровские сигналы в проекции СО и/или наличие свободной жидкости в полости сустава до 10 мл, 3 степень – утолщение СО выше 6 мм и/или наличие множественных и сливных допплеровских сигналов в проекции СО и/или объем свободной жидкости в полости сустава выше 10 мл. При наличии ГД в проекции гиалинового хряща у больных с возможностью проведения диагностической пункции КС проводилась фазово-контрастная микроскопия пунктата синовиальной жидкости с применением микроскопа Аmscope T610-PH-3 40X-1000X 3MP.
При ультрасонографии КС изучались толщина гиалинового хряща по верхнему контуру надколенника (ВКН), контуру медиального мыщелка большеберцовой кости (ММББК), латерального мыщелка большеберцовой кости (ЛМББК) и заднему контуру медиального надмыщелка бедренной кости (ЗКМНБК), оценивались количество и размеры остеофитов на суставных поверхностях бедренных и большеберцовой костей. Определялся размер наибольшего остеофита и проводилось ранжирование пациентов в зависимости от его размеров на три группы: пациенты с мелкими остеофитами – при длине наибольшего остеофита до 2 мм, со средними остеофитами – от 2 мм до 5 мм и крупными остеофитами – более 5 мм. В случае поражения обоих суставов в результаты исследования включались данные о суставе с наличием ГД в гиалиновом хряще и более выраженным синовитом.
В зависимости от наличия в гиалиновом хряще ГД наблюдаемые больные были разделены на две группы: в 1 группу вошли 32 пациентов с выявленными при ультрасонографии ГД хотя бы в одном из КС, а 2 группу составили 82 больных с отсутствием ГД. Между группами больных проводилось сравнение клинических, лабораторных, рентгенологических и ультрасонографических показателей.
В дальнейшем все больные 1 группы (32 пациента) и 34 больных 2 группы, которые были сопоставимы по выраженности структурных изменений в КС, прошли повторное обследование через 2 года. В течение двух лет все больные принимали комплексное лечение, включавшее применение хондроитина сульфата (ХС) в суточной дозе 750-1200 мг и (или) глюкозамина сульфата (ГС) в суточной дозе 1500 мг (пациенты принимали их как минимум на протяжении 6 месяцев в течение каждого года), диацереин 50-100 мг в сутки или пиаскледин 300 мг в сутки (диацереин и пиаскледин применялись на протяжении не менее 6 месяцев в течение каждого года), методы физической реабилитации и по мере потребности парацетамол (в дозе – до 3 г в сутки) и/или нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). После двухлетнего периода наблюдения больным проводилось повторное обследование с применением рентгенографии коленных суставов в прямой проекции, общеклиническое, лабораторное обследование и ультрасонография. Также оценивалась потребность больных в приеме НПВС по индексу, в которой суммарная доза принятых препаратов с учетом количества дней и суточной дозы оценивалась 0 до 100 [19].
Полученные данные были внесены в компьютерную программу Statistica 6.0 (StatSoft, США) для последующей статистической обработки. Достоверность различий оценивали по критерию Манна-Уитни при уровне значимости p < 0,05. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Ме [25-й; 75-й перцентили]).
Результаты.
При ультрасонографии при первичном исследовании у больных ОА ГД в гиалиновом хряще в виде глыбок в гиалиновом хряще хотя бы одного из пораженных суставов были выявлены у 17 больных, а в виде точечно линейно расположенных структур – у 23 больных, в целом ГД были обнаружены у 32 больных ОА (28,1%). При этом у 19 больных ГД при ультрасонографии обнаруживались в обоих КС, а у 13 – только в одном из КС. Фазово-контрастная микроскопия была выполнена у 13 больных с выявленными при ультрасонографии ГД в проекции гиалинового хряща. У всех из этих больных при микроскопии были выявлены кристаллы ПФК.
При проведении сравнительного анализа клинических параметров течения ОА у больных 1 и 2 групп достоверные различия не были выявлены (см. табл. 1.). При оценке рентгенологических данных в обоих группах достоверных различий также не было установлено как в частоте разных рентгенологических стадий ОА, так и в значениях толщины медиального отдела суставной щели (см. табл. 1.).
Таблица 1
Исходные данные клинических, рентгенологических и ультрасонографических показателей у больных ОАКС в зависимости от обнаружения ГД в гиалиновом хряще.
|
Показатель |
1 группа (при наличии ГД в гиалиновом хряще), n = 32 |
2 группа (при отсутствии ГД в гиалиновом хряще), n = 82 |
|
||
|
Индекс WOMAC боль, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
183,4 [166,2; 203,9] |
179,5 [152,5; 192,7] |
|
||
|
Индекс WOMAC скованность, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
67,6 [58,4; 79,8] |
58,5 [39,8; 68,3] |
|
||
|
Индекс WOMAC функциональные нарушения, исходный, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
525,7 [478,1; 583,4] |
535,3 [488,2; 614,7] |
|
||
|
Индекс WOMAC суммарный, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
786,3 [716,72; 815,50] |
758,91 [692,47; 818,4] |
|
||
|
СРБ, мг/л, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
3,2 [1,7; 4,4] |
1,5 [0,5; 3,2] |
|
||
|
Рентгенологическая стадия по Келлгрену |
I, % |
15,6 |
19,5 |
||
|
II, % |
68,8 |
51,2 |
|||
|
III, % |
15,6 |
29,3 |
|||
|
Толщина суставной щели в медиальной части КС, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
2,3 [1,7; 2,5] |
2,1 [1,6; 3,2] |
|||
|
Доля больных с различной степенью выраженности синовита по ультрасонографическим данным |
1 ст., % |
12,5* |
56,1* |
||
|
2 ст., % |
78,1* |
31,7* |
|||
|
3 ст., % |
9,4 |
12,2 |
|||
|
Доля больных в зависимости от размера максимального остеофита |
Крупные, % |
34,4* |
19,5* |
||
|
Средние, % |
43,8 |
46,3 |
|||
|
Мелкие, % |
21,9 |
34,1 |
|||
|
Средний размер максимального остеофита, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
4,1 [1,4; 6,8] |
3,0 [1,2; 5,7] |
|||
|
Толщина слоя гиалинового хряща, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
по ВКН |
1,6 [0,9; 2,3] |
1,8 [1,4; 2,4] |
||
|
по ММББК |
0,9 [0,6; 1,5] |
1,3 [0,9; 1,7] |
|||
|
по ЛМББК |
1,2 [0,8; 1,6] |
1,1 [0,7; 1,5] |
|||
|
по ЗКМНБК |
1,8 [1,4; 2,3] |
2,2 [1,7; 2,5] |
|||
Примечание: * - достоверность различий между значениями показателя в группах с уровнем p < 0,05.
Как показал анализ данных ультрасонографии (см. табл. 1.), у больных 1 группы достоверно чаще (p<0,05) наблюдались признаки 1 и 2 степени синовита, а также была выше частота обнаружения крупных остеофитов. Примечательным является то, что у больных 1 группы по сравнению с больными 2 группы чаще наблюдалось утолщение СО выше 4 мм (у 93,4% против 58,5%, p<0,05) и появление допплеровских сигналов в СО (у 46,9% против 21,9%, p<0,05) при отсутствии различий в частоте обнаружения свободной жидкости в полости КС при ультрасонографии (у 21,9% против 36,6%, p>0,1).
На втором этапе исследования было проведено сравнение значений клинических показателей и структурных изменений у 32 больных 1 группы и 34 больных 2 группы.
При повторном исследовании больных не было установлено различий в значениях показателя индекса WOMAC и СРБ (см. табл. 2.). В то же время у больных 1 группы отмечалось достоверное повышение индекса приема НПВС (p < 0,05).
Таблица 2
Клинические различия 1 и 2 групп через 2 года наблюдения.
|
Показатель |
1 группа (при наличии ГД в гиалиновом хряще), n = 32 |
2 группа (при отсутствии ГД в гиалиновом хряще), n = 34 |
|
Индекс WOMAC боль, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
123,4 [103,0; 146,2] |
129,3 [108,3; 145,3] |
|
Индекс WOMAC скованность, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
43,2 [32,7; 56,9] |
46,2 [33,2; 57,2] |
|
Индекс WOMAC функциональные нарушения, исходный, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
532,2 [473,1; 567,5] |
545,9 [497,7; 609,3] |
|
Индекс WOMAC суммарный, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
693,7 [662,7; 718,2] |
704,3 [689,5; 726,8] |
|
СРБ, мг/л, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
1,8 [1,1; 2,7] |
1,3 [0,6; 2,6] |
|
Индекс приема НПВС, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
17,2 [13,6; 23,2]* |
5,6 [2,5; 8,7]* |
Примечание: * - достоверность различий между значениями показателя в группах с уровнем p < 0,05. Проведение повторного клинического исследования было проведено у 32 больных 1 группы и 34 больных второй группы.
Также была проведена оценка структурных изменений за двухлетний период у наблюдавшихся больных (32 больных 1 группы и 34 больных 2 группы) по данным рентгенографии и ультрасонографии. Учитывая то, что из исходно обследованных 82 больных 2 группы удалось проследить динамику характерных для ОА структурных изменений тольцо у 34 больных, в таблице 3 представлены исходные характеристики структурных изменений у больных обеих групп перед двухлетним периодом наблюдения. Обе группы были сопоставимы по степени снижения ширины суставной щели и снижения толщины гиалинового хряща и размерам остеофитов.
Таблица 3
Исходные рентгенологические и ультрасонографические показатели структуры КС у больных, наблюдаемых в течение двух лет (66 больных).
|
Показатель |
1 группа (при наличии ГД в гиалиновом хряще), n = 32 |
2 группа (при отсутствии ГД в гиалиновом хряще), n = 34 |
||
|
Рентгенологическая стадия по Келлгрену |
I, % |
15,6 |
16,7 |
|
|
II, % |
68,8 |
52,8 |
||
|
III, % |
15,6 |
30,6 |
||
|
Толщина суставной щели в медиальной части КС, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
2,3 [1,7; 2,5] |
2,2 [1,7; 2,9] |
||
|
Доля больных в зависимости от размера максимального остеофита |
Крупные, % |
34,4 |
30,6 |
|
|
Средние, % |
43,8 |
47,2 |
||
|
Мелкие, % |
21,9 |
22,2 |
||
|
Средний размер максимального остеофита, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
4,1 [1,4; 6,8] |
3,9 [2,0; 5,8] |
||
|
Толщина слоя гиалинового хряща, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
по ВКН |
1,6 [0,9; 2,3] |
1,7 [1,5; 2,2] |
|
|
по ММББК |
0,9 [0,6; 1,5] |
1,3 [0,8; 1,6] |
||
|
по ЛМББК |
1,2 [0,8; 1,6] |
1,1 [0,8; 1,4] |
||
|
по ЗКМНБК |
1,8 [1,4; 2,3] |
2,0 [1,6; 2,5] |
||
Примечание: * - достоверность различий между значениями показателя в группах с уровнем p < 0,05.
Таблица 4
Изменение рентгенологических и ультрасонографических показателей структуры КС у наблюдаемых больных за двухлетний период (66 больных).
|
Показатель |
1 группа (при наличии ГД в гиалиновом хряще), n = 32 |
2 группа (при отсутствии ГД в гиалиновом хряще), n = 34 |
||
|
Изменение распределения больных по рентгенологическим стадиям по Келлгрену |
I, % |
-3,8 |
- 8,4 |
|
|
II, % |
-7,0 |
0,0 |
||
|
III, % |
5,0 |
4,0 |
||
|
Изменение толщины суставной щели в медиальной части КС, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
- 0,2 [-0,3; 0,0] |
- 0,2 [-0,4; 0,0] |
||
|
Изменение процентной доли больных с различными размерами максимального остеофита |
Крупные, % |
15,6* |
2,7* |
|
|
Средние, % |
-8,5 |
2,8 |
||
|
Мелкие, % |
-9,4 |
-5,5 |
||
|
Изменение среднего размера максимального остеофита, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
1,5 [1,2; 2,0]* |
0,6 [0,2; 1,1]* |
||
|
Изменение толщина слоя гиалинового хряща, мм, Ме [25-й; 75-й перцентили] |
по ВКН |
0,0 [-0,2; 0,0] |
-0,1 [-0,2; 0,0] |
|
|
по ММББК |
-0,1 [-0,2; 0,0] |
-0,2 [-0,4; 0,0] |
||
|
по ЛМББК |
0,0 [-0,1; 0,0] |
0,0 [-0,1; 0,0] |
||
|
по ЗКМНБК |
-0,1 [-0,3; 0,0] |
-0,2 [-0,3; 0,0] |
||
Примечание: * - достоверность различий между значениями показателя в группах с уровнем p < 0,05.
Через два года рентгенологические данные в обеих группах не претерпели статистически достоверных изменений (см. табл. 4). При проведении повторного ультрасонографического исследования у всех больных 1 группы продолжали обнаруживаться ГД в гиалиновом хряще при увеличении количества больных с ГД в обеих КС с 19 до 24. Среди больных 2 группы ГД были обнаружены у 2 из 36 пациентов (5,6%). У одного из этих больных удалось получить пунктат синовиальной жидкости и провести фазово-контрастную микроскопию, которая позволила выявить у этого больного кристаллы ПФК в синовиальной жидкости.
При сравнении ультрасонографических показателей структурных изменений в КС у больных обеих групп были определены достоверные отличия (p<0,5) в динамике роста остеофитов (см. табл. 4). У больных 1 группы было отмечено более выраженный рост размеров максимального остеофита и процентной доли пациентов, у которых обнаруживались остеофиты крупного размера при отсутствии различий в изменении толщины гиалинового хряща. Ультрасонографические признаки утолщения СО КС более 4 мм были определены у 7 (21,9%) больных 1 группы и у 6 (16,7%) у больных 2 группы (p>0,1).
Обсуждение
В ранее проведенных исследованиях было показано, что выявляемые при ультрасонографии ГД в гиалиновом хряще у больных ПФА соответствуют кристаллам ПФК [16, 17]. При этом известно, что особенностью структурных изменений у больных ОА при сочетании с ПФА является более выраженная наклонность к формированию остеофитов и вовлечение в патологический процесс лучезапястных, локтевых и плечевых суставов [20].
В настоящем исследовании было проведено исследование клинической значимости выявления ГД в гиалиновом хряще при ультрасонографии у больных ОА с преимущественным поражением КС. Были получены данные о достаточно высокой частоте (28,1%) обнаружения ГД в гиалиновом хряще у больных ОА при ультрасонографии КС. Обнаружение ГД в гиалиновом хряще больных ОАКС характеризовалось постоянством: ГД продолжали определяться у всех 34 больных в течение двухлетнего периода наблюдения, более того, у 5,6% больных ОА в группе сравнения они стали обнаруживать впервые. С учетом факта подтверждения наличия кристаллов ПФК при фазово-контрастной микроскопии у всех обследованных больных с наличием ГД в хряще и синовиального выпота, можно рассматривать обнаружение ГД при ультрасонографии в качестве маркера ОА с депонированием ПФК. При этом, на наш взгляд, отсутствуют принципиальные различия между терминами ОА с депонированием ПФК и кристалл индуцированный воспалительный (кристаллический) фенотип ОА.
Как следует из данных сравнительного изучения ультрасонографических показателей, ОА с депонированием ПФК ассоциируется с более активным течением синовита по сравнению с остальными больными ОА. Синовит при наличии ГД в гиалиновом хряще проявляется преимущественной гипертрофией СО и в меньше степени явлениями экссудации. Следует отметить устойчивость течения синовита у больных с ОА и ПФК к комбинированному применению медленно действующих симптоматических препаратов, что проявилось в повышенной потребности в применении НПВС. В аспекте прогрессирования характерных для ОА негативных структурных изменений в исследовании продемонстрирована особенность прогрессирования ОА при наличии ГД – рост остеофитов при относительной сохранности хрящевой ткани.
Таким образом, данные проведенного исследования согласуются с концепцией Rosenthal A.K. (2011), высказавшим предположение о существовании порочного круга при кристаллическом фенотипе ОА [9]. Изменение метаболизма и структуры хрящевой ткани способствуют накоплению солей ПФК и ОФК в хряще и развитию хондрокальциноза, который, в свою очередь, создает условия для развития стойкого синовита и повышенной реакции субхондральной кости в виде роста остеофитов, вызывая дальнейшее прогрессирование структурных изменений.
Прозрачность исследования
Исследование не имело спонсорской поддержки. Исследователи несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях
Все авторы принимали участие в разработке концепции и дизайна исследования и в написании рукописи. Окончательная версия рукописи была одобрена всеми авторами. Авторы не получали гонорар за исследование.
Список литературы.
- Алексеева ЛИ, Шарапова ЕП, Кашеварова НГ, Пьяных СЕ. Новые возможности в терапии остеоартроза. Справочник поликлинического врача. 2015;(6-8):4-7 [Alekseeva LI, Sharapova EP, Kashevarova NG, P'yanykh SE. New possibilities in the therapy of osteoarthritis. Spravochnik Poliklinicheskogo Vracha. 2015;(6-8):4-7 (In Russ.)].
- Каратеев АЕ, Лила АМ. Остеоартрит: современная клиническая концепция и некоторые перспективные терапевтические подходы. Научно-практическая ревматология. 2018;56(1):70–81. [Karateev AE, Lila AM. Osteoarthritis: current clinical concept and some promising therapeutic approaches. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice. 2018;56(1):70-81 (In Russ.)]
- Loeser RF, Goldring SR, Scanzello CR, Goldring MB. Osteoarthritis: a disease of the joint as an organ. Arthritis Rheum. 2012;64:1697-1707; doi: 10.1002/art.34453.
- Fuerst M, Bertrand J, Lammers L et al. Calcification of articular cartilage in human osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2009;60:2694-2703; doi: 10.1002/art.24774.
- Nalbant S, Martinez JA, Kitumnuaypong T et al. Synovial fluid features and their relations to osteoarthritis severity: new findings from sequential studies. Osteoarthritis Cartilage. 2003; 11:50-54. PMID: 12505487.
- Zhang W, Doherty M, Bardin T, Barskova V, Guerne P-A, Jansen T et al. EULAR evidence based recommendations for calcium pyrophosphate crystal associated arthritis. Part I: Terminology and diagnosis. Ann Rheum Dis 2010. 2011;70 (4):563-70. doi:10.1136/ard.2010.139105
- Елисеев МС, Владимиров СА, Насонов ЕЛ. Применение метотрексата у больных с болезнью депонирования кристаллов пирофосфата кальция. Научно-практическая ревматология. 2018;56(2):196-201. Eliseev MS, Vladimirov SA, Nasonov EL. Use of methotrexate in patients with calcium pyrophosphate crystal deposition disease. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice. 2018;56(2):196-201 (In Russ.).
- Liote F, Ea H-K. Clinical implications of pathogenic calcium crystals. Curr. Opin. Rheumatol. 2014;26 (2):192-196.
- Rosenthal AK. Crystals, inflammation, and osteoarthritis. Curr. Opin. Rheumatol. 2011; 23(2):170-173; doi: 10.1097.
- Stack J, McCarthy G. Basic calcium phosphate crystals and osteoarthritis pathogenesis: novel pathways and potential targets. Curr. Opin. Rheumatol. 2016;28(2):122-126.
- Nasi S, So A, Combes C et al. Interleukin-6 and chondrocyte mineralisation act in tandem to promote experimental osteoarthritis. Ann. Rheum. Dis. 2016;75(7):1372-1379; doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207487.
- Durcan L, Bolster F, Kavanagh EC, McCarthy GM. The structural consequences of calcium crystal deposition. Rheum. Dis. Clin. North Am. 2014;40:311-328.
- Chang CC, Tsai YH, Liu Y. et al. Calcium-containing crystals enhance receptor activator of nuclear factor kB ligand/macrophage colony-stimulating factor-mediated osteoclastogenesis via extracellular-signal-regulated kinase and p38 pathways. Rheumatology. 2015;54:1913-1922.
- Барскова ВГ. Диагностика болезни депонирования кристаллов пирофосфата кальция (пирофосфатной артропатии). Русский медицинский журнал;2012;7:350-353. [Barskova VG. Diagnostics of with calcium pyrophosphate crystal deposition disease (pyrophosphate arthropathy) Russian Medical Journal;2012;7:350-353.
- Кудаева ФМ, Барскова ВГ, Смирнов АВ и др. Сравнение трех методов лучевой диагностики пирофосфатной артропатии. Научно-практическая ревматология. 2012;50(3):55-9 [Kudayeva FM, Barskova VG, Smirnov AV, et al. Comparison of three radiodiagnostic techniques for pyrophosphate arthropathy. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice. 2012;50(3):55-9 (In Russ.)]. doi: 10.14412/1995-4484-2012-710.
- Filippucci E, Riveros MG, Georgescu D et al. Hyaline cartilage involvement in patients with gout and calcium pyrophosphate deposition disease: An ultrasound study. Osteoarthritis Cartilage 2009;17:178-181.
- Filippucci E, Di Geso L, Grassi W. Tips and tricks to recognize microcrystalline arthritis. Rheumatology. 2012; 51 (7): 18–21.
- Altman R, Asch E, Bloch D et al. The American College of Rheumatology criteria for the classification and reporting of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum. 1986; 29:1039-1049.
- Dougados M, Simon P, Braun J, et al. ASAS recommendations for collecting, analysing and reporting NSAID intake in clinical trials/epidemiological studies in axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2011;70:249–51.
- Шостак Н.А. Пирофосфатная артропатия – подходы к диагностике. Русский медицинский журнал. 2015; 25:1518–1519.
